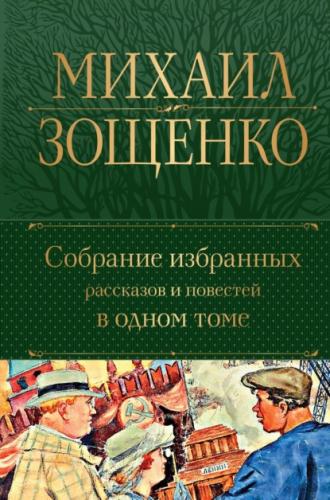Может, оттого, что я давно не был в деревне, изба эта показалась мне необыкновенно грязной. Маленькое оконце, сплошь заляпанное тряпками и бумагой, едва пропускало свет в избу. В избе баба стирала белье в лоханке. Рядом с лоханкой сидел старичок довольно дряхлого вида. Он внимательно, с интересом смотрел, как мыльная пена, вылетая из лоханки, ударялась в стену кусками и со стены сползала медленно, оставляя на ней мокрые полосы.
В избе было душно. Несмотря на это, старичок одет был крепко: в валенках, нагольном тулупе, даже в огромной меховой шапке.
Сам старичок был малюсенький – ноги его, свешиваясь с лавки, не доставали земли. Сидел он неподвижно.
Я поздоровался и просил побыть в избе минут пять – прогреться.
– Грейтесь! – коротко сказала баба, едва оборачиваясь в мою сторону.
Старичок промолчал. Он, впрочем, сурово взглянул на меня, но после снова принялся следить за мыльной пеной.
Я недоумевал.
«Уж не этот ли старикан – сенатор?» – думал я.
В это время в избу вошел мой извозчик.
Он поздоровался с бабой и подошел к старику.
– Господину сенатору с кисточкой, – сказал он, протягивая ему руку.
Старичок подал нехотя свою сухонькую ручку. Извозчик засмеялся, подмигнул мне и сказал тихо:
– Это и есть…
Должно быть, услышал это старичок. Он заерзал на скамье и заговорил вдруг каким-то странным мужицким говорком, сильно при этом окая:
– Вре-е… Вы не слухайте ево, господин… Меня тут все дражнят… сенатором… А чего это за слово – мне неведомо. Ей-бо…
Баба бросила вдруг стирать, утерла лицо передником и рассмеялась. Извозчик мой засмеялся тоже.
Я уж подумал было, что это и в самом деле так: дразнят старика, однако меня смутила его странная, как бы нарочная мужицкая речь. Мужики здесь так не говорили.
Да и подозрительно было оканье и сухие, белые, не мужицкие руки.
– Послушайте, – сказал я, улыбаясь, – а я ведь вас где-то видел. Кажется, в Питере…
Старик необыкновенно смутился, заерзал на лавке, но сказал спокойно:
– В Питере?.. Нетути, не был я в Питере…
Извозчик ударил себя по ляжкам, присел и захохотал громко, захлебываясь. И, не переставая смеяться, он все время подталкивал меня в бок, говоря:
– Ой, шельма! Ой, умереть сейчас, шельма какая! Ой, врет как…
Баба смеялась тихо, беззвучно почти – я видел, как от смеха дрожали ее груди.
Старик смотрел на извозчика с бешенством, но молчал. Я присел рядом со стариком.
– Бросьте! – сказал я ему. – Ну чего вы, право… Я человек частный, по своему делу еду… К чему вы это передо мной-то? Да и что вы боитесь? Кто вас тронет? Человек вы старый, безобидный… Нечего вам бояться.
Тут произошла удивительная перемена со старичком. Он поднялся с лавки, скинул с себя шапку, побледнел. Его лицо перекосилось какой-то гримасой, губы сжались, профиль стал острый, птичий, с неприятно длинным носом. Старик казался ужасно взволнованным.
– Тек-с, – сказал он совершенно иным тоном, – полагаете, что никто не тронет? Никто?
– Да,