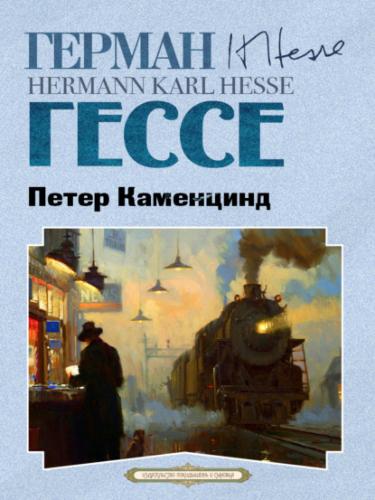Тем временем я медленно мужал и постепенно становился юношей. На моей тогдашней фотографии изображен худощавый высокий деревенский парень в плохой школьной одежде, с немного тусклыми глазами и неразвившимся, неуклюжим туловищем. Только в голове было что-то уже законченное и определенное. Со своего рода изумлением следил я за тем, как исчезают у меня манеры отроческого периода, и с неясным радостным чувством ждал студенческой поры. Я должен был поступить в Цюрихский университет, а в случае особых успехов мои покровители обещали дать мне возможность провести следующие семестры в других городах. Все это рисовалось мне прекрасной классической картиной. Беседка с бюстами Гомера и Платона; в ней я, склоненный над фолиантами, а со всех сторон огромная панорама города, озер, гор и заманчивой дали. Я стал хотя и немного трезвее, но способен был все-таки возноситься в мечтах и ждал грядущего счастья с твердой уверенностью оказаться достойным его.
Последний год пребывания в школе я посвятил итальянскому языку и первому ознакомлению со старыми новеллистами, основательным изучением которых я решил заняться на первом семестре в Цюрихе. Наконец, наступил день, когда я распрощался с учителями, уложил свой сундучок и со сладостной грустью расстался с очагом своих мечтаний, – домом, в котором жила Рози Гиртаннер. Каникулы дали впервые почувствовать мне горечь жизни и быстро и жестоко порвали мои прекрасные крылья мечты. Вернувшись домой, я нашел мать больной. Она лежала в постели, почти не говорила и не обрадовалась даже моему возвращению. Особенного горя я не испытал, но мне было все-таки грустно, что моя радость и юная гордость не нашли себе отклика. В первый же день отец заявил мне, что, хотя он и не имеет ничего против моих дальнейших занятий, однако, не может давать мне для этого денег. Если мне не хватит маленькой стипендии, то я сам уже должен позаботиться о необходимом. В моем возрасте он давно уже ел свой собственный хлеб и т. д. Прогулкам по озеру и горам тоже пришел конец: мне приходилось помогать отцу в поле и дома, а в часы отдыха у меня не было охоты решительно ни к чему, даже к чтению. Мучительно и больно было смотреть мне, как пошлая повседневная жизнь грубо предъявляет свои права и пожирает все, что только есть у меня.
Отец мой, покончив с денежным вопросом, был, правда, хотя строг и суров, однако, относился ко мне все-таки с лаской: но меня это не радовало. То же, что мои знания и мои книги внушали ему ко мне молчаливое, полупрезрительное уважение, смущало меня и причиняло мне боль. Я часто думал о Рози и испытывал всегда недоброе, упорное чувство своей мужицкой неспособности стать когда-либо уверенным в себе человеком. Целыми днями не выходила у меня из головы мысль, не лучше ли мне остаться и забыть и свою латынь, и все упования, поменяв их на мучительную, тягостную, убогую жизни на родине. Истерзанный, мрачный ходил я все лето и даже у постели больной матери не находил себе ни покоя ни утешения. Мечта о прекрасной