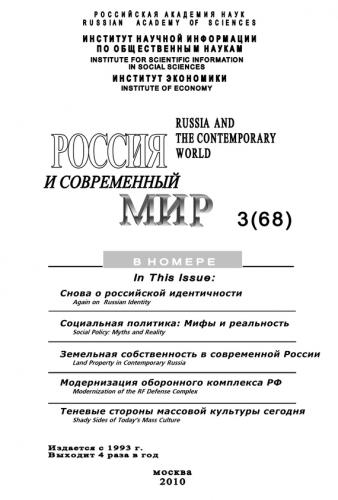Деликатность положения российской власти в 1990-е годы выразилась, в частности, в том, что фактически вернувшись в колею Русской системы (17), она все еще не решалась открыто провозгласить самоё себя средоточием национальной идентичности. Вместо этого предпринимались странные действия по созданию комиссии, уполномоченной президентским указом искать национальную идею. По всей видимости, создавая эту комиссию власть отдавала дань инерции идеократических предрассудков (8, с. 200). Комиссия национальную идею не нашла, а вскоре, в августе 1998, власти стало и вовсе не до того.
В итоге, почти все последнее десятилетие XX в. российское общество оставалось без патерналистской опеки со стороны государства. Именно в это время произошли наиболее радикальные социальные изменения, хотя, очевидно, не те, которых ожидали либеральные реформаторы. Для понимания сущности уже происшедших в России перемен чрезвычайно важно осознавать, что в своей совокупности они явились тяжелейшей социальной травмой, обусловленной жизненной дезориентацией, обесцениванием в новых условиях накопленного социального опыта, разрушением привычных смыслов и значений. А «уход» государства стал фактором, предельно усилившим болезненность и радикальность травмирующих перемен.
Идея социальной трансформации как травмы получила разработку в трудах выдающегося польского социолога П. Штомпки, который выделяет следующие фазы травматического состояния.
Во-первых, это предпосылки грядущей травматизации, связанные с нарастанием кризисных явлений в экономике, социальной сфере, культуре, сфере политических отношений. Иначе говоря, речь здесь идет именно о том наборе обстоятельств, в которых М.С. Горбачёву пришлось начинать свою перестройку.
Во-вторых, это сами травматические события, ощущение того, что их ход вышел из-под контроля власти или осознание того, что власть оставляет общество и конкретного индивида один на один с новыми вызовами. Впрочем, травматические ощущения не облегчаются и в том случае, если индивид ощущает