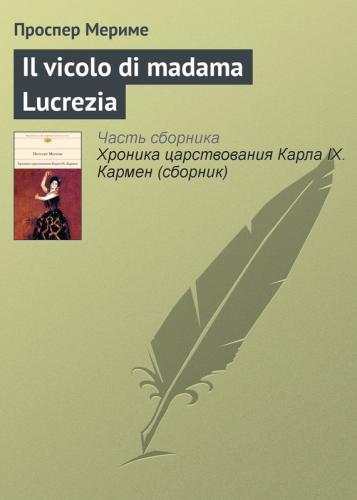– Мой наставник не понимает ни слова на вашем языке. Давайте говорить по-французски: так мы будем чувствовать себя свободнее.
От перемены языка молодой человек словно переродился. Ничто в его словах не напоминало больше священника. Мне казалось, что я разговариваю с каким-нибудь нашим либералом из провинции. Но от меня не ускользнуло, что он продолжал говорить все тем же монотонным голосом, часто до крайности не соответствовавшим живости его выражений. Очевидно, это был заученный прием, имевший целью обмануть Негрони, который время от времени просил объяснить ему, о чем мы говорим. Разумеется, наши переводы были чрезвычайно свободными.
Мимо нас прошел молодой человек в фиолетовых чулках.
– Вот, – сказал мне дон Оттавио, – наши нынешние патриции. Гнусная ливрея! Увы, через несколько месяцев и я ее надену.
Помолчав, он продолжал:
– Какое счастье жить в такой стране, как ваша. Будь я французом, может быть, я стал бы когда-нибудь депутатом!
Это благородное честолюбие страшно рассмешило меня. Аббат заметил это, я должен был объяснить ему, что разговор зашел у нас об ошибке одного археолога, принявшего за антик статую Бернини.
К обеду мы вернулись в палаццо Альдобранди. Почти сразу же после кофе маркиза попросила у меня извинения за сына, который должен был удалиться к себе в комнату для исполнения некоторых религиозных обязанностей. Я остался с нею и аббатом Негрони, который, развалившись в большом кресле, спал сном праведника.
Между тем маркиза стала подробнейшим образом расспрашивать меня об отце, о Париже, о моей прошлой жизни, о моих планах на будущее. Она показалась мне любезной и доброй, но слишком уж любопытной, а главное – слишком озабоченной спасением моей души. Впрочем, она превосходно говорила по-итальянски, и беседа с нею была для меня отличным уроком произношения, который я решил повторить.
Я часто заходил к ней. Почти ежедневно по утрам я осматривал древности вместе с ее сыном и неизбежным Негрони, а под вечер обедал у них в палаццо. Принимала у себя маркиза лишь очень немногих лиц, и то почти исключительно духовных.
Впрочем, однажды она познакомила меня с какою-то немкой, большой ее подругой, недавно обратившейся в католичество. Это была г-жа Штраленгейм, уже много лет жившая в Риме. Пока дамы беседовали между собою о каком-то знаменитом проповеднике, я рассматривал при свете лампы портрет Лукреции. Мне показалось уместным тоже вставить словечко.
– Что за глаза! – воскликнул я. – Можно подумать, что эти веки сейчас дрогнут.
При этой несколько претенциозной гиперболе, на которую я отважился, чтобы выставить себя знатоком в глазах г-жи Штраленгейм, она задрожала от ужаса и спрятала лицо в платок.
– Что с вами, дорогая? – спросила