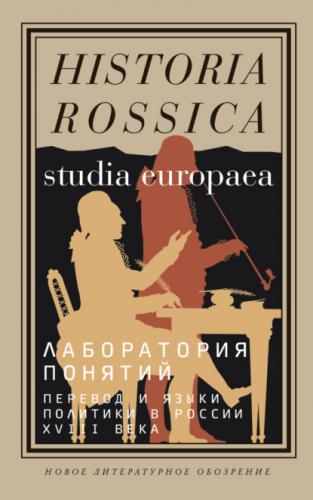Такая позиция требует уточнения нашего понимания значения и функции перевода в культуре, особенно после «переводческого поворота» в гуманитаристике. Когда перевод рассматривают как неоригинальный текст, выполняющий посредническую функцию между двумя знаковыми системами, он пропадает в зазоре между двумя культурами, теряя свою объективную принадлежность культуре, на язык которой переведен текст. Однако подобная позиция довольно уязвима, поскольку перевод – это всегда новый текст, созданный в рамках «принимающей» культуры, принадлежащий прежде всего ей и отражающий особенности сознания ее представителей. Для «принимающей» культуры перевод будет выступать как оригинальное сочинение, которое отличается своеобразием происхождения, но его система знаков и образов, языковые особенности, цепочки ассоциаций, понятийный аппарат связаны с автором-переводчиком и той культурой, в которой переводчик сформировался, подчас больше, чем с оригиналом. Как отмечал В. В. Бибихин, «граница между переводом и другими видами словесного творчества не просто расплывчата, ее по сути дела вовсе нет»87. Это, например, прекрасно понимали русские читатели XVIII века, рассматривая переводы Андрея Хрущова как его творения, снискавшие ему славу «русского Сократа», а Василий Тредиаковский утверждал, что «переводчик от творца только что именем рознится»88. Об особом значении перевода в русской культуре XVIII века говорил Ю. М. Лотман: следуя за теорией «трансплантации» Д. С. Лихачева, он указывал на своеобразное перерождение иностранных текстов в русском переводе, приобретавших иные значения и новые функции на русской почве89.
Действительно, перевод является одним из видов словесности, связанным с универсальной функцией интерпретации любого сообщения, не обязательно переведенного с другого языка. В этом смысле каждый человек постоянно существует в рамках «культурного перевода», считывая и интерпретируя знаки и символы90. Стоит согласиться с Джорджем Стайнером в том, что «любая