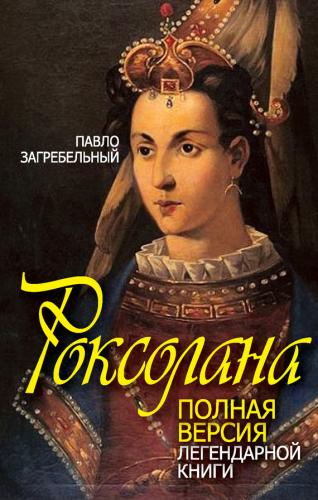А Ибрагим кружил вокруг нее, подпрыгивал, не выпускал из рук охапку ступенек, опутанных длинным шелковым шнуром, и то и дело выкрикивал свои дурацкие слова на разных языках, которых Настася еще не могла знать, но которые – о диво и ужас! – понимала!
Отступая от Ибрагима, отыскивая опору (или защиту?), она ощутила сквозь тонкую кофтенку холодную осклизлость лестничного стояка и теперь уже не отступала оттуда, стояла на дне глубоченного, как безнадежность, погреба, а Ибрагим все прыгал, торжествуя, но постепенно утихомирился, остановился, поглядел на девушку внимательнее, и она увидела в его глазах такой же испуг, какой ощущала и в своих собственных. Он все понял. У него были ступеньки, но без лестницы. Она завладела лестницей, хоть и без ступенек.
– Отдай мне! – показал он рукой на высокие стояки, скрепленные лишь вверху и внизу тремя поперечинами.
– Не отдам! Отдай ты!
– Не отдам! Ты отдай!
– Тебе – никогда!
– А я отниму!
– А я не дам!
Он бросился было к ней, но испугался, что и впрямь может потерять свое, вильнув спиной, отбежал подальше. А она боялась оторваться от своего, схватилась за стояки обеими руками, выпятила грудь – попробуй подойди!
Проклятие и нелепость! Забыла, что должна кричать, звать на помощь, забыла, где она и кто, следила только за движениями своего противника, за коварной игрой его глаз и нервного лица, знала, что должна любой ценой отобрать то, что он держит, и ни за какую цену не отдать свое, но не видела для этого никакого способа, кроме одного – уничтожить этого человека, убить его решительно и безжалостно, тогда поставить ступеньки на место и выбраться на волю. Она никогда никого не убивала. Ну и что? Пока была Настасей, не убивала и не стала бы убивать ни за что. Но теперь она Хуррем, а кто знает, что это за женщина? И знает ли она сама о себе хоть что-нибудь?
– Подойди ко мне, – холодно сказала она Ибрагиму. – Подойди, я должна тебя убить.
И от ужаса проснулась.
Лежала почти голая на своей низкой постели, съежившись то ли от холода, то ли от страха, уже и сбросив с себя сон, не могла пошевелиться, только мысль мучительно билась в ней, ужасающая мысль о том, что вся жизнь вокруг нее, в сущности, не что иное, как глубочайшая безысходность, на дно которой брошено множество несчастных людей, и одни из них обладают стояками лестницы, другие – ступеньками, каждый изо всех сил защищает свою собственность, никто не хочет поделиться с другим, помочь другому, помогая тем самым и себе, и потому всем им суждено оставаться на дне, в безысходности, в безнадежности навсегда и навеки, ибо это неизбежно, как судьба, и никто не в состоянии что-либо изменить.
– Проклятый мир, – шептали неслышно ее губы