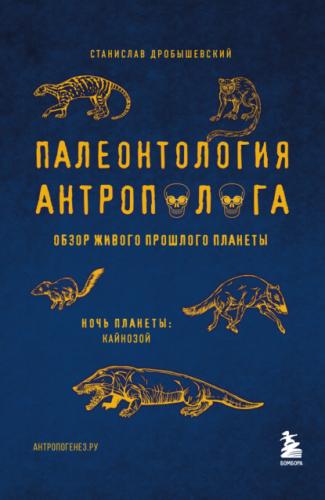Тут же в Болька обнаружены первые камбалы, демонстрирующие самое начало появления асимметрии. У Heteronectes chaneti и Amphistium paradoxum (а также чуть более поздней французской A. altum) тело было уже вполне узнаваемой камбальей формы, но ещё не лежачее и без захода спинного плавника на голову, совершенно обычный рот, а правый глаз только-только начал смещаться на левую сторону, так что эти первобытные камбалы левым глазом смотрели немножко вниз, а правым – сильно наверх. Видимо, они вполне активно плавали как все нормальные рыбы, но периодически ложились на дно на бочок отдохнуть, приподнимаясь, чтобы оглядеться и грести дальше. Между прочим, установить такие явления на окаменелых рыбах очень непросто, ведь на отпечатке череп часто бывает перекошен, и понять причину кособокости – тафономическая она или эволюционная – весьма сложно. Но на то и крутые палеоихтиологи: путём сопоставления мелких косточек правой и левой сторон черепа было доказано, что дело именно во врождённой асимметрии, а не посмертной деформации.
Современные Psettodes erumei из Индийского океана и P. belcheri из Западной Африки выглядят как логичное продолжение эоценовых протокамбал и одновременно как недоделанные камбалы: у них по-прежнему спинной плавник не заходит на голову, рот симметричен, левый глаз находится на положенном месте, а правый расположен строго на макушке.
Впечатляющие рыбы эоцена – Clupeopsis straeleni из Бельгии и Monosmilus chureloides из Пакистана могли достигать метра длины, а их челюсти были усажены дюжиной огромных клыкоподобных зубищ. Рыбы стали саблезубыми до того, как это вошло в моду у котиков! Ясно, что раз среди рыб есть страшные хищники, значит, есть и крупная добыча. Между прочим, современные родственники клюпеопсиса – мелкие планктоноядные рыбёшки-анчоусы; так эволюция может превратить грозу морей в скромного собирателя.
Сухопутные членистоногие эоцена прекрасны по-своему. В Северной Америке доживал свой век последний представитель тараканоподобного отряда насекомых Alienoptera – Grant viridifluvius, чрезвычайно похожий на муравья. Очевидно, мимикрия была весьма актуальна в тогдашних джунглях.
А муравьи были достойны того, чтобы ими прикидываться. Самки гигантских североамериканских муравьёв Titanomyrma lubei достигали 5 см, то есть размеров современных колибри! Ужасны были и самцы немецких Formicium giganteum, похожие на огромных жуков. Впрочем, и в жизни этих монстров были свои сложности: на отпечатках древесных листьев в местонахождении Мессель найдены следы челюстей муравьёв-зомби, поражённых паразитическими грибами кордицепсами. Судя по обилию таких отпечатков, для бедных мурашек засилье коварных грибов было огромной проблемой. В балтийском янтаре сохранился бедняга муравей-древоточец Camponotus, из которого в нескольких местах уже пророс жуткий Allocordyceps baltica.
Некоторые грибы из