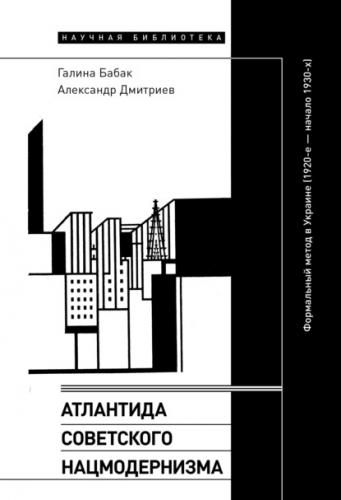Не секрет, что множество представителей русского литературного и художественного модернизма и реализма до 1917 года выказывали симпатию к идеям социализма и коммунизма, начиная с Максима Горького[579], заканчивая Александром Блоком и прочими. Местом схождения их этических позиций была как раз та самая точка, о которой мы говорили выше. Именно это позволило Горькому проповедовать жестокие меры против российского крестьянства, а Блоку – воспеть революционных насильников в поэме «Двенадцать». У последнего они даже становятся апостолами новой этики и возглавляет их Христос: «В белом венчике из роз – / Впереди – Исус Христос»[580].
Но уже в конце Гражданской войны в России наступает взаимное охлаждение и разочарование: становится очевидным, что задачи у идеологии победившей революции и модернистского проекта разные. Одними из первых под огонь марксистской критики даже в условиях нэповской либерализации попадают те из историков, которые ранее воспринимались как прогрессивные, отступавшие от позитивистского канона одновременно в сторону и социологических, и мировоззренческо-романтических моделей, как Роберт Виппер[581]. Здесь стоит вспомнить судьбу Виктора Шкловского, который до 1921 года «делал» одновременно две революции – политическую и революцию литературной теории. В его книге «Сентиментальное путешествие», посвященной бурным событиям 1917–1922 годов, прежде всего поражает убедительное чувство этической правоты повествователя, преобразующего мир двух реальностей – социальной и эстетической.
Но уже после 1923 года вернувшийся из Германии Шкловский и другие формалисты попадают под двойной огонь критики со стороны марксистских идеологов. С одной стороны, это Лев Троцкий[582], тогда один из главных руководителей советского государства, а с другой – члены пролетарских писательских организаций, которые считали себя более правоверными марксистскими идеологами, нежели сама советская власть. Критика не исключала в ряде случаев известной терпимости (до «Великого перелома») со стороны большевистской верхушки к тонкости анализа у формалистов, например, в изучении риторики Ленина на страницах ЛЕФа[583].
Подобная ситуация была характерна не только для советской России 1920‐х,