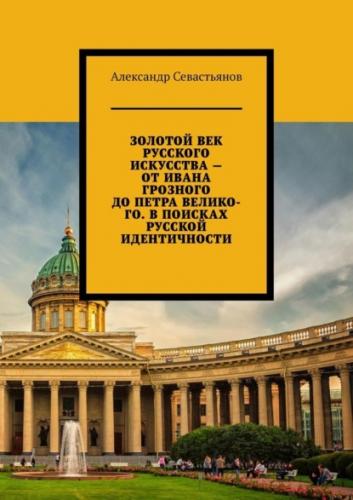Вершиной данной династической традиции был брак дочери Ивана Третьего от Софьи Палеолог – Елены, которая в 1495 г. вышла замуж за великого князя литовского Александра, ставшего впоследствии королем Польши.
Этот краткий очерк княжеской брачности позволяет понять, как нестерпимо узки стали при Орде границы международных политических притязаний рюриковичей, какой далекой периферией оказалась Русь Ордынская для всей, по сути дела, Европы. Единственный прорыв удалось осуществить Василию Первому, выдавшему Анну, свою дочь от Софьи Ольгердовны, за несчастного императора Византии Иоанна VIII Палеолога, которому досталась жалкая, обкорнанная со всех сторон бывшая империя и плачевная роль предателя православия, заключившего с католиками в 1439 году унию на их условиях. Но позорная уния не спасла Второй Рим, и Иоанн умер от горя, узнав о захвате турками Сербии и понимая, что на очереди его собственная держава. Так что брак с ним – не такая уж удача для московского тестя, он не идет ни в какое сравнение с русско-византийскими браками времен Владимира Святого или Ярослава Мудрого.
Следующий шаг в данном направлении – женитьба Ивана Третьего вторым браком на Софье Палеолог – напротив, оказался ловким политическим ходом, выведя уже не «Ордынскую», а Московскую Русь в роли наследницы великой православной империи, а самого великого князя московского – в роли царя и держателя имперских регалий.
Собственно говоря, именно в княжение Ивана Третьего начинается новое знакомство Европы с Русью, которую заметили отчасти как раз благодаря такому удачному супружеству. Не случайно восстановление старого знакомства началось с обмена посольствами со Священной Римской империей в 1488—1489 годах, которое было посвящено попыткам обеих сторон просватать дочь Ивана Третьего. Что означало возвращение в круг европейских держав объединенной и достаточно сильной Руси, родниться с которою вновь стало не зазорно. Правда, «не зазорно» понималось сторонами по-разному: Иван имел в виду сына императора Фридриха III, а тот предлагал в качестве женихов лишь второго сорта владетельных особ – Баденского маркграфа, курфюрста Саксонского, маркграфа Бранденбургского. Но все же…
В те годы Московская Русь – уже и еще – не считала себя частью европейского мира и не сподобилась