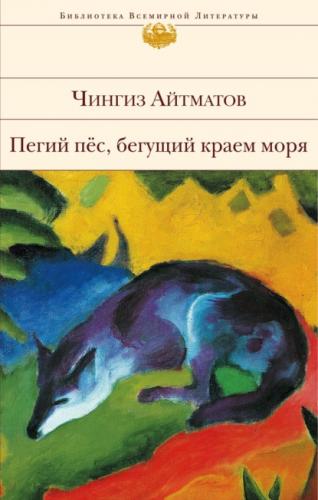А ведь когда-то все было по-иному. Теперь такое невозможно даже представить себе, об этом теперь никто знать не знает, не догадывается даже, что, не будь в ту издавнюю пору утки Лувр, мир мог бы устроиться совсем по-другому – суша не противостояла бы воде, а вода не противостояла бы суше. Ведь в самом начале – в изначале начал – земли в природе вовсе не было, ни пылиночки даже. Кругом простиралась вода, только вода. Вода возникла сама из себя, в круговерти своей – в черных безднах, в безмерных пучинах. И катились волны по волнам, растекались волны во все стороны бесстороннего тогда света: из ниоткуда в никуда.
А утка Лувр, да-да, та самая, обыкновенная кряква-широконоска, что по сей день проносится в стаях над нашими головами, летала в ту пору над миром одна-одинешенька, и негде ей было снести яйцо. В целом свете не было ничего, кроме воды, даже тростиночки не было, чтобы гнездо смастерить.
С криком летала утка Лувр – боялась, не удержит, боялась, уронит яйцо в пучину бездонную. И куда бы ни отправлялась утка Лувр, куда бы ни долетала она – везде и повсюду плескались под крыльями волны, кругом лежала великая Вода – вода без берегов, без начала, без конца. Извелась утка Лувр, убедилась: в целом свете не было места, где бы устроить гнездо.
И тогда утка Лувр села на воду, надергала перьев из своей груди и свила гнездо. Вот с того-то гнезда плавучего и начала земля образовываться. Мало-помалу разрасталась земля, мало-помалу заселялась земля тварями разными. А человек всех превзошел среди них – приноровился по снегу ходить на лыжах, по воде плавать на лодке. Стал он зверя добывать, стал он рыбу ловить, тем кормился и род умножал свой.
Да только если бы знала утка Лувр, как трудно станет на белом свете с появлением тверди среди сплошного царства воды. Ведь с тех пор, как возникла земля, море не может успокоиться; с тех пор бьются море против суши, суша против моря. А человеку подчас приходится очень туго между ними – между сушей и морем, между морем и сушей. Не любит его море за то, что к земле он больше привязан…
Приближалось утро. Еще одна ночь уходила, еще один день нарождался. В светлеющем, сероватом сумраке постепенно вырисовывалось, как губа оленя в сизом облаке дыхания, бушующее соприкосновение моря с берегом. Море дышало. На всем вскипающем соприкосновении суши и моря клубился холодный пар летучей мороси, и на всем побережье, на всем его протяжении стоял упорный рокот прибоя.
Волны упорствовали на своем: волна за волной могуче взбегали на штурм суши вверх по холодному и жесткому насту намытого песка, вверх через бурые, осклизлые завалы камней, вверх – сколько сил и размаха хватало, и волна за волной угасали, как выдох, на последней черте выплеска, оставляя по себе мгновенную пену да прелый запах взболтанных водорослей.
Временами вместе с прибоем выметывались на берег обломки льдин, невесть откуда занесенных весенним движением океана. Шалые льдины, вышвырнутые на песок, сразу превращались в нелепые беспомощные куски смерзшегося моря. Последующие волны быстро возвращались и уносили их обратно, в свою стихию.
Исчезла мгла. Утро все больше наливалось светом. Постепенно вырисовывались очертания земли, постепенно прояснялось море.
Волны, растревоженные ночным ветром, еще бурунились у берегов беловерхими набегающими грядами, но в глубине, в теряющейся дали море уже усмирялось, успокаивалось, свинцово поблескивая в той стороне тяжкой зыбью.
Расползались тучи с моря, передвигаясь ближе к береговым сопкам.
В этом месте, близ бухты Пегого пса, возвышалась на пригористом полуострове, наискось выступавшем в море, самая приметная сопка-утес, и вправду напоминавшая издали огромную пегую собаку, бегущую по своим делам краем моря. Поросшая с боков клочковатым кустарниковым разнолесьем и сохранявшая до самого жаркого лета белое пятно снега на голове, как большое свисающее ухо, и еще большое белое пятно в паху – в затененной впадине, сопка Пегий пес всегда далеко виднелась окрест – и с моря, и из лесу.
Отсюда, из бухты Пегого пса, поутру, когда солнце поднялось высотой на два тополя, отчалил в море нивхский каяк. В лодке было трое охотников и с ними мальчик. Двое мужчин, что помоложе и покрепче, гребли в четыре весла. На корме, правя рулем, сидел самый старший из них, степенно посасывая деревянную трубку, – коричневолицый, худой, кадыкастый старик, очень морщинистый – особенно шея, вся изрезанная глубокими складками, и руки были под стать – крупные, шишковатые в суставах, покрытые рубцами и трещинами. Седой уже. Почти белый. На коричневом лице очень выделялись седые брови. Старик привычно жмурился слезящимися, красноватыми глазами: всю жизнь ведь приходилось смотреть на водную гладь, отражающую солнечные лучи, – и, казалось, вслепую направлял ход лодки по заливу. А на другом конце каяка, примостившись, как кулик, на самом носу, то и дело мельком поглядывая на взрослых, с великим трудом удерживал себя на месте, чтобы поменьше крутиться, дабы не вызывать неудовольствие хмурого