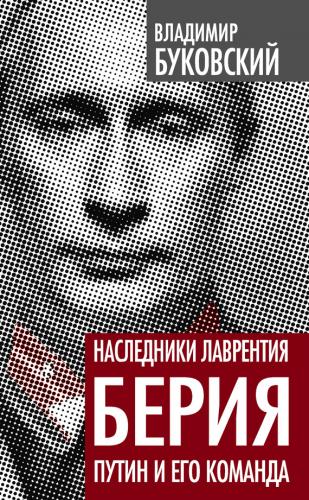– Вы никогда не думали вернуться в Россию?
– Я привык к тому, что моя жизнь подчинена какому-то делу. И если появится какое-либо конкретное дело, такое, что мне нужно будет поехать в Россию, – поеду. Но сейчас ничего такого нет.
– А Россия – это не ваше дело?
– Сегодня с уверенностью могу сказать, что не мое. Я думаю, что до конца моей жизни ничего не изменится. Все развивается по очевидному сценарию. Я убежден, что в нем нет места для меня. Распад, политические дележки, пустота, апатия, всем все обрыдло… Что бы я там делал? Новое поколение еще только подрастает. Конечно, оно дозреет, конечно, придут другие люди и сделают то, что надо, только меня к тому времени уже не будет.
– А в 1976 году, когда вас обменяли на Луиса Корвалана и вы летели в самолете из СССР и не знали, где этот самолет сядет, вы думали о том, что время изменится и вы сможете вернуться?
– Я всегда знал, что этот режим кончится, но думал, что это может произойти не раньше конца нашего столетия, когда уже буду стариком. И всю жизнь, хочу я этого или нет, мне придется провести за границей. Поэтому я никогда не строил никаких личных планов, связанных с Россией.
– Вам тяжело жить в чужой стране?
– Я к этому привык. Я ведь всегда жил не в своей стране. В СССР я все время чувствовал себя иностранцем, даже тогда, когда мне было 15 лет. Поэтому я привык к тому, что я нигде не на своем месте.
– Россия и Советский Союз – одно и то же?
– Конечно, нет. Хотя сейчас они не сильно отличаются, во всяком случае, не до такой степени, чтобы я в России почувствовал себя как дома.
– Вы там не чувствуете себя дома?
– Нет.
– Какая страна для вас самая близкая?
– Пожалуй, я не сумею назвать такой страны.
– А где ваш дом?
– В Кембридже, там я живу уже 20 лет. Впрочем, это вообще для меня не проблема – земля, дом… Когда Набокова спросили, где бы он хотел жить, тот ответил: «Если можно, в большом комфортабельном отеле». А для меня это не важно – я очень быстро привыкаю к новому окружению, обычаям, языку.
– Не очень верится в это… Ведь вы постоянно занимаетесь именно Россией.
– Как раз больше всего времени я трачу на занятие нейрофизиологией мозга. А книги о России?.. Это зависит не от меня, а от издателя – рынка, спроса и т. д. А я издателя слушаю. Например, сейчас буду писать книгу о Западе.
– Я так упорно расспрашиваю вас об этом, потому что многие русские писатели говорят, что не могли бы жить вне своей страны. И я хочу понять, почему они не могли бы там писать, а вы – можете?
– Во-первых, большинство русских писателей не знают иностранных языков, а литература и язык для них неразделимы. Сказать правду, из русских писателей, вынужденных эмигрировать, только Виктор Некрасов немного говорил по-французски, а вот Андрей Синявский не знал ни слова, так же, как и Владимир Максимов. У меня было такое впечатление, что Максимов интуитивно боится, что французский язык «разбавит» его русский, а вместе с ним и творческие возможности.
А я – как Бродский или Набоков – пишу на английском и даже предпочитаю его русскому. (Впрочем, возможно, дело в том, что я не пишу ни стихов, ни повестей, только эссе, а их можно писать на любом языке.) Русский язык очень эластичный, романтичный и очень неточный. По-русски невозможно писать кратко. Когда американские или английские газеты заказывают мне статью, обычно говорят: 1200—1800 слов. По-русски это абсолютно невозможно, человек даже не успеет начать!
– Вы говорите, что в СССР чувствовали себя иностранцем. Почему же там вы делали вещи, за которые приходилось платить такую страшную цену?
– Я это делал не для России. Мы, диссиденты, друг другу говорили прямо: мы делаем это для себя. Бывает так, что человек не может повести себя по-другому, потому что тогда он перестанет быть самим собой. Это была, если хотите, защита собственной человеческой суверенности. Это было, между прочим, характерно для диссидентского движения в России. В Польше или Чехословакии было немного иначе. Там в деятельности оппозиции было больше политики и ощущения национальной несвободы. Российские диссиденты были свободны от национализма. Когда сейчас я вижу боевиков со свастиками на улицах Петербурга, я не понимаю, что происходит.
И еще одно. И в России, и, позже, на Западе я понимал нашу борьбу с коммунизмом как дело глобальное, международное, ибо коммунизм был злом общемировым. Хотя истории было угодно, чтобы сначала угнездился он именно в России, но потом была Восточная Европа, Китай, Куба, половина Африки. С коммунизмом можно бороться в любой точке мира. Это как зеркальное отражение – коммунисты тоже везде боролись за коммунизм: Троцкий в Мексике, другие в Испании. Так и мы могли бороться с коммунизмом где угодно, даже в каком-нибудь «красном уголке», под портретом Ленина.
– Значит, Россия для вас всего лишь страна, в которой вы родились?
– Да… Нет,