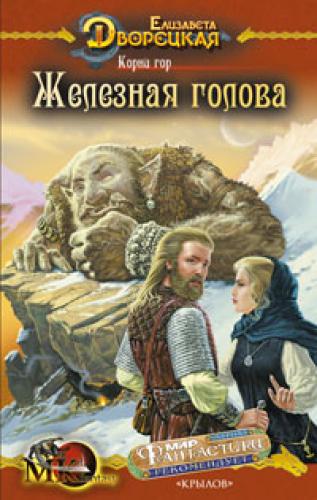В мелькании серебристо-ледяного света и угольной тьмы сам Медный Лес казался ненастоящим, дрожал, колебался, грозил рассыпаться на блики и пропасть навсегда. Но женщина, стоявшая на вершине Пещерной горы над Великаньей долиной, обладала глазами ночи: она видела каждую скалу, четко, до трещинки, обрисованную лунным светом, каждую вершину ели. Само ее лицо казалось белым, как луна, переменчивым, как облака, а в глазах переливались озера сумеречных теней. Длинные темные волосы спускались ниже колен, и неподвижно стоявшая женщина походила на высокий камень. Под этой луной не нашлось бы ни единой живой души, только горы, мох, вершины елей, и женщина была им сродни.
Ветер, гнавший облака, летел через вершину и свистел вокруг ведьмы Медного Леса. Протягивая руки ладонями вперед вслед ветру, она говорила нараспев:
Вождь Фьялленланда,
тот, что был отдан
Врагу Великанов
и смерти ветвей!
В час полнолунья
я заклинаю:
сон твой опутан
сетью моей![2]
Голос ее был голосом горы: его сплетали острый стук камня и холодное журчанье ручья, шепот трав и шорох ветвей. Порой он взмывал выше и сливался с ветром, порой опускался и стлался по земле, полз невидимым змеем, заполнял собой Медный Лес и собирал в себя всю силу его корней и камней.
Слово от слова
слово рождало,
дело от дела
дело рождало;
Убийца земель,
посеял ты гибель, —
колосья шумят,
готовится жатва![3]
Вскинув голову, женщина кричала, обращаясь прямо к небу, и лунный свет бросал в ее широко раскрытые глаза такие безумные и яркие отсветы, что, казалось, это ее глаза освещают небосклон. А голос ее наполнился силой, напился ветра и летел, могучий и гулкий, как сама буря.
Приди же на поле,
где вороны пили
кровавую брагу, —
твой кубок готов!
Твой путь неминуем —
тебя заклинаю
лунным безумьем,
стоячей водою,
горящей землей,
стонущим камнем,
кровью остывшей,
смехом врагов,
неотплаченной смертью,
костром отгоревшим,
золой погребальной,
жилищем подземным,
что строят тебе!
Подхваченное ветром, заклинание взмыло в серое небо, полетело над лесистыми горами Медного Леса, над вересковыми равнинами Квиттингского Севера и над осинниками Рауденланда, над морем, изрезанным узкими длинными фьордами, над другими горами, высокими и скалистыми. Как стрела, пущенная точно в цель, заклинание летело над спящими землями, над тихими крышами, над тлеющими очагами, среди сотен и тысяч человеческих духов выбирая тот, к которому было послано.
И где-то в горной стране фьяллей, в населенном фьорде, в просторной многолюдной усадьбе, в большом спальном покое один-единственный человек заворочался на лежанке. Что-то чуждое и тревожное вдруг вошло в его сны, как незваный гость входит в дом, ударом ноги вышибая дверь; что-то невидимое душило его, давило на грудь. Сердце тревожно забилось, гоня по всему телу лихорадочную дрожь.
Спящий перевернулся с боку на бок, длинноволосая голова мотнулась из стороны в сторону. Он обладал ясным умом и сильной волей, не слабевшей даже во сне; все существо его стремилось проснуться, вырваться из наваждения. Но незваная гостья его души, ведьма с лунным безумьем в глазах, не отпускала, а издалека метала одну за другой невидимые петли, стараясь обуздать и подчинить себе чужой дух.
Женщина на вершине горы стояла, вытянув руки вперед и закрыв глаза. Ее слух через моря и земли ловил трудное, сдавленное, лихорадочное дыхание спящего фьялля. Не открывая глаз, ведьма Медного Леса жадно вдохнула, точно у нее с жертвой было одно дыхание на двоих. В эти мгновения она видела дух врага перед собой как на ладони: изнемогающий, испуганный, жалкий. И тогда женщина засмеялась. Ее смех звучал негромко, отрывисто и судорожно, он вырывался из груди толчками, как по кускам. Так могли бы смеяться камни.
В те же мгновения спящий фьялль отвечал хрипом – и как похожи были его хрип и ее смех! Мужчина жадно ловил воздух, рука его бессознательно тянулась к горлу, точно хотела оторвать душащие пальцы, подбородок вздергивался,