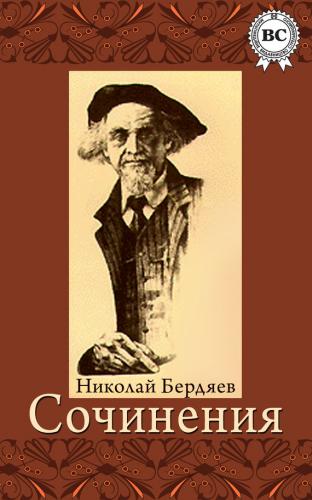В книге этой, думается мне, есть внутреннее единство и внутренняя последовательность, хотя и нет достаточного внешнего единства и внешней последовательности. Отдельные части этой книги писались в разное время и отрывками печатались в «Вопросах философии и психологии». Теперь отрывки эти переработаны, написаны новые части, и все претворилось в книгу, не систематическую, но отражающую цельное религиозно-философское миросозерцание и мирочувствие. Я был бы счастлив, если б книгой этой обострил в современном сознании ряд жгучих религиозно-философских проблем, особенно в сознании людей, вступивших на путь религиозно-мистический. Ныне не время созидания систем, законченных и обоснованных. Ныне религиозная философия должна быть выражением и творчеством жизни. Ныне парадоксальность философствования может быть верным отражением антиномичности религиозной жизни.
В основе «философии свободы» лежит деление на два типа мироощущения и мироотношения – мистический и магический. Мистика пребывает в сфере свободы, в ней – трансцендентный прорыв из необходимости естества в свободу божественной жизни. Магия еще пребывает в сфере необходимости, не выходит из заколдованности естества. Путь магический во всех областях легко становится путем человекобожеским. Путь же мистический должен быть путем богочеловеческим. Философия свободы есть философия богочеловечества.
Москва. Январь. 1911 года.
Часть первая
Глава I. Философия и религия
В новые времена иссякает в господствующем сознании творческое дерзновение. Думают о чем-то, пишут о чем-то, но были времена, когда думали и писали что-то, когда было то, о чем теперь вспоминают, о чем пишут исследования. Наша эпоха потому, быть может, так «научна», что наука говорит о чем-то, а не что-то. Наука вообще, в частности историческая науки, дает превосходные исследования о религии, о мистике, о Пифагоре, например, или о бл. Августине. Но вот сам бл. Августин не был наукой, он был что-то, то, о чем пишут научные исследования. Мало кто уже дерзает писать так, как писали прежде, писать что-то, писать свое, свое не в смысле особенной оригинальности, а в смысле непосредственного обнаружения жизни, как то было в творениях бл. Августина, в писаниях мистиков, в книгах прежних философов. Великие учителя Церкви писали что-то, раскрывали жизненные тайны христианства, а теперь имеют смелость писать лишь об учителях Церкви, о их дерзновении. Сами не дерзают уже. Теперь пишут исследования о былых мистиках, о былых метафизиках, о Платоне, о Скотте Эригене, о Мейстере Эккерте, о Якове Бёме и о св. Терезе. А сама мистика, сама метафизика, сам опыт религиозный? Не дерзают уже. Почтенно писать об Эккерте, о Бёме, но неприлично писать то, что писал Эккерт или Бёме, так, как Эккерт или Бёме писали. Мы стыдливо прячемся за исторические исследования о чем-то, боимся науки, которая требует, чтобы говорили лишь о чем-то. Когда обращаемся к прошлому, часто поражаемся творческому дерзновению наших предков: они дерзки быть, мы же потеряли смелость быть. Мы дерзаем обнаружить лишь свое о чем-то и не дерзаем быть чем-то. Нашу эпоху разъедает болезненная рефлексия, вечное сомнение в себе, в своих правах на обладание истиной, принижает нашу эпоху дряблость веры, слабость избрания, не осмеливаются слишком страстно и непоколебимо объясняться в любви к чему-то и к кому-то, мямлят, колеблются, боятся, оглядываются на себя и на соседей. Раздвоение и расслабление воли уничтожает возможность дерзновения. Духовная робость неизменно сопровождает слабость волевого избрания.
Все эти печальные симптомы так характерны для критических эпох. Лишь органические эпохи имеют дерзновение в вере, в любви, в избрании. Критические эпохи по преимуществу – о чем-то, органические эпохи по преимуществу – что-то. Неизбежный процесс