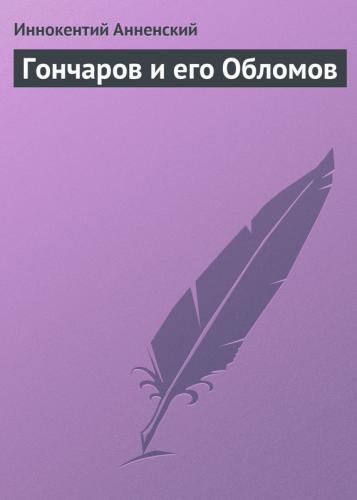Имя Гончарова цитируется на каждом шагу, как одно из четырех-пяти классических имен, вместе с массой отрывков оно перешло в хрестоматии и учебники; указания на литературный такт и вкус Гончарова, на целомудрие его музы, на его стиль и язык сделались общими местами. Гончаров дал нам бессмертный образ Обломова.
Гончаров имел двух высокоталантливых комментаторов,[5] которые с двух различных сторон выяснили читателям его значение; наконец, от появления последней крупной вещи Гончарова прошло 22 года и… все-таки на бледно-зеленой обложке гончаровских сочинений над глазуновским девизом[6] напечатаны обидные для русского самосознания и памяти покойного русского писателя слова: Второе издание.
Эти мысли пришли мне в голову, когда я недавно перечитал все девять томов Гончарова и потом опять перечитал…
Так как причин этому явлению надо искать не в Гончаровском творчестве, а в условиях нашей общественной жизни, то я и не возьмусь теперь за выяснение их. Меня занимает Гончаров.
Гончаров унес в могилу большую часть нитей от своего творчества. Трудно в сглаженных страницах, которые он скупо выдавал из своей поэтической мастерской, разглядеть поэта. Писем его нет, на признания он был сдержан. В Петербурге его знали многие, но как поэта почти никто. На старости лет, в свободное от лечения время, напечатал он «Воспоминания». Кто не читал их?
Ряд портретов, ряд прелестных картин, остроумные замечания, порой улыбка, очень редко вздох, – но, в общем, разве это отрывок из истории души поэта? Нет, здесь лишь обстановка, одна материальная сторона воспоминаний: из-за всех этих Чучей, Углицких, Якубовых[7] совсем не видно поэта-рассказчика, что он думал, о чем мечтал в те далекие годы. Рассказывая про университет, он даже не говорит я, а мы, рассказывает не Гончаров, а один из массы студентов.
Лиризм был совсем чужд Гончарову: не знаю, может быть, в юности он и писал стихи, как Адуев младший, но, в таком случае, вероятно, у него был и благодетельный дядюшка, Адуев старший, который своевременно уничтожал эту поэзию. Вторжения в свой личный мир он не переносил: это был поэт-мимоза. К голосу критики, положим, он всегда прислушивался, но требования его от критики были очень ограниченны. «Ni exces d'honneurs, ni exces d'indignites».[8] Сам он рассказывает, что в отрывках читал в кружке друзей первые части «Обрыва».[9] но на это, конечно, нельзя смотреть иначе, как на художественный прием; замечания, советы, мнения чутких и образованных друзей помогали ему в трудной работе объективирования.
Прочитайте те страницы, которые он предпослал 2-му изданию «Фрегата Паллада» и его «Лучше поздно, чем никогда», – есть ли в них хоть тень гоголевского предисловия к «Мертвым душам» или тургеневского «Довольно»: ни фарисейского биения себя в грудь, ни задумчивого и вдохновенного позирования – minimum личности Гончарова.
Итак, личность Гончарова тщательно пряталась в его художественные образы или скромно отстранялась от авторской славы. Как подсмеивался сам поэт над наивными стараниями критиков открыть, в ком он себя увековечил: в старшем или в младшем Адуеве, в Обломове или в Штольце.
В последующих страницах я попытаюсь восстановить черты если не личности, то литературного образа Гончарова…
Гончаров жил и творил главным образом в сфере зрительных впечатлений: его впечатляли и привлекали больше всего картины, позы, лица; сам себя называет он рисовальщиком, а Белинский чрезвычайно тонко отметил, что он увлекается своим уменьем рисовать.[10] Интенсивность зрительных впечатлений, по собственным признаниям, доходила у него до художественных галлюцинаций. Вот отчего описание преобладает у него над повествованием, материальный момент над отвлеченным, краски над звуками, типичность лиц над типичностью речей.
Я понимаю, отчего Гончарову и в голову никогда не приходила драматическая форма произведений.
Островский, наверное, был более акустиком, чем оптиком; типическое соединялось у него со словом – оттуда эти характеристики в разговорах. Оттуда эта смена явлений, живость действия, преобладающая над выпуклостью