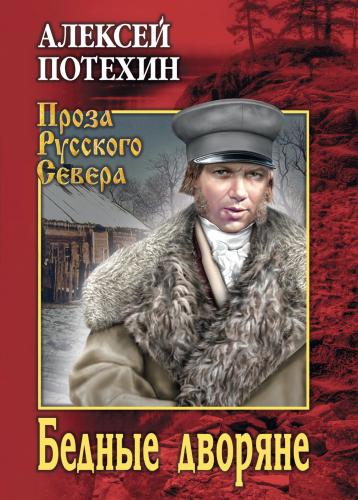Лавки по стенам и два стула с высокими спинками, из точеных столбиков, с соломенным сиденьем, выкрашенные черною краскою, дополняли убранство небогатого жилища, отличавшегося во всем какою-то изысканною чистотою и опрятностью, доходившею почти до чопорности, так что и пол, и потолок, и лавки, казалось, блестели и были вылощены. У стола сидели две женщины. Одной было лет под пятьдесят; другой около 20; обе они были одеты не по-крестьянски: на старшей – поношенный ситцевый теплый капот, голова повязана темным бумажным платком. Младшая – с открытою головою и волосами, заплетенными в одну косу, распущенную по спине, была одета в клетчатое холстинковое платье. Это были мать и дочь, единственные обитательницы описанного жилища. Мать пряла пряжу, медленно и старательно выводя тонкую нитку, которую она потом с какой-то любовью и заботливостью навивала на веретено. Дочь плела кружева, весело побрякивая коклюшками. Тонкие черты лица старушки, приветливое, хотя в то же время и несколько лукавое выражение ее лица, какая-то степенность и даже некоторая важность в ее манерах с первого взгляда могли расположить к ней всякого, и ясно говорили, что это была в свое время женщина красивая, умная, с сознанием собственного достоинства и, как говорится, себе на уме. Дочь казалась совершенно не похожею на нее – гораздо больше ростом, гораздо мужественнее и вообще как-то грубоватее матери, но, что называется, девушка кровь с молоком. По белизне ее рук и свежему цвету лица безошибочно можно было заключить, что девушка росла если не неженкой, то любимой матушкиной дочкою, которая не знала ни большой нужды, ни заботы и не изнурялась непосильным трудом.
Прасковья Федоровна – так звали мать – была вольноотпущенная от помещицы деревни Мешкова, ее бывшая фаворитка, горничная, потом доверенная ключница и наперсница. Несколько времени назад барыня отпустила ее на волю, за ее продолжительную и верную службу, и отпустила не кое-как, не с пустыми руками: своим барщинным мужикам приказала она срубить для нее даром, бесплатно, избушку, на которую пожаловала тридцать бревешек из собственных дач; дочери дала из собственного гардероба два поношенных ситцевых и одно почти новенькое шерстяное платье; на разживу и засвидетельствование в суде отпускной дала синенькую бумажку и впредь приказала обращаться к себе со всякой нуждою, обещаясь ни в чем не оставить. И, надо правду сказать, действительно не оставляла: оклеивали в господском доме стены – барыня все обрезки от шпалер приказала отдать Прасковье Федоровне, перекладывали в доме печь – все негодные изразцы и годные еще обломки кирпича были отосланы к ней же, чтобы и у Прасковьи Федоровны была изразцовая лежанка; сломается ли старый медный подсвечник, отобьется ли горлышко у чайника, или ручка у чашки, или край у тарелки, одним словом, как только вещь сделается негодною для господского употребления, – тотчас же она отсылалась во владение Прасковьи Федоровны. И как дорого ценила, как искренно была благодарна она за все эти барские подарки! «Какой бы другой господин, говорила она, стал помнить да думать о вольном человеке? Другой бы сказал: будь доволен и тем, что на волю-то отпустили; а у меня, по милости госпожи моей, что ни есть в доме, все не купленное, разве только что самовар купила, да что поценнее, подороже, а то все – господское: всякий последний пустяк».
И барыня со своей стороны тоже была довольна своей бывшей ключницей. «За то люблю Параню, – говаривала она, – что чувствует. Что-что она теперь вольная – она и теперь готова служить мне, как своя раба крепостная: только пошли да позови, так что угодно, на все готова. А пожалуешь что, так свой крепостной не станет так благодарить да превозносить, как она… Вот каких я люблю, таким мне не жалко ничего и дать, потому – вижу, что чувствует человек, понимает. Вот еще жениха буду приискивать хорошего ее Катерине; а замуж будет выходить, свое старое шелковое платье дам в приданое, непременно пожалую, хорошее платье подарю».
Прасковья Федоровна даже сначала огорчилась и несколько обиделась, когда барыня объявила ей, что намерена дать ей вольную…
– Чтой-то, Матушка, не угодна, что ли, я вам стала? – говорила она со слезами на глазах.
– Нет, Параня, ты мне угодна, я твоей службой довольна, за то тебя и хочу наградить.
– Матушка, я и без того вами много довольна, и без того всем награждена.
– Знаю