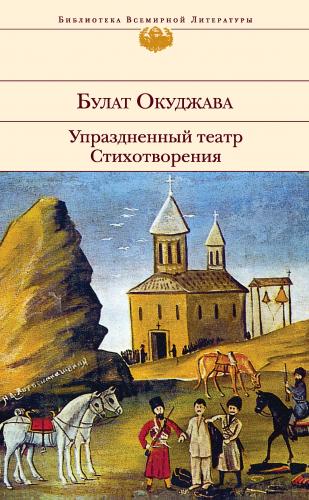«О стихах я не говорю: половина – должны войти в пословицу» – эта знаменитая характеристика из пушкинского письма А. А. Бестужеву относится к бессмертному «Горю от ума» Грибоедова. Но многие ли, даже из признанных классиков XIX века, могут похвастаться тем, что надышанные ими языковые формулы стали частью языка столь органичной, что источник – авторство – для говорящего уже не важен? Ну, конечно, сам Пушкин. Ну, бессмертный И. А. Крылов. Почитай – всё… От прочих, даже величайших, поэтов остались все-таки стихотворные строки, авторские цитаты – но не летучие формулы, не неделимые атомы фразеологем, подобные неделимым библейским выражениям («блудный сын», «бесплодная смоковница»), пронизывающим массив русского языка.
В поэзии XX века бесспорное лидерство по части «крылатых слов» принадлежит Булату Окуджаве. Утверждаю это спокойно и уверенно, даже с оглядкой на титанов поэзии «серебряного века» – их строкам, самым гениальным, похоже, всегда не хватало смирения и мудрости для того, чтобы стать органической частью народной речи. «Песни Булата Окуджавы, – писала уже через год после ухода поэта Мариэтта Чудакова, – явились камертоном и для современной ему и последующей лирики, и для интонационной атмосферы времени». Это, об ту пору еще подразумевавшее полемику, заключение ныне перекочевало из области литературной критики в область самоочевидного литературоведческого тезиса. В отличие от прочих стихотворцев, стремившихся вписаться в воздух эпохи, Окуджава этот воздух творил в наиболее прямом и строгом смысле слова – подобно тому, как творил его раз и навсегда избранный недосягаемым ориентиром Пушкин. Это нам по сей день кажется, что он лишь подслушал, озвучил, уловил нечто носящееся в воздухе. С возрастанием временной дистанции эта иллюзия, боюсь, будет лишь углубляться.
Ныне в стране не то что дня – часа не проходит без того, чтобы где-нибудь в газетном заголовке, по радио или на TV не прозвучала (пусть искаженная либо неосознанная) цитата из Окуджавы. Я уже не говорю о повседневной бытовой речи. Не говорю о мириадах звукозаписей и попросту задушевных мурлыканьях под гитару… Строго говоря, вот она, высшая награда для стихотворца – народность в чистейшем беспримесном виде.
Народность, наглядным символом которой стала скорбная толпа, стоящая на Арбате под дождем в очереди к Театру Вахтангова.
Годы, отделяющие нас от кончины Булата Шалвовича, обозначили и укрупнили масштаб утраты. Любовь и горе плохо способствуют пониманию. Тогда, в черном июне 97-го, растерянность была практически повсеместной. Люди, месяцами друг с другом не общавшиеся, созванивались, уточняя уже не имеющие значения подробности, сокрушенно бекали и мекали в трубку: «Что же теперь будет?..» Нечто подобное до того происходило разве что после недавней смерти Иосифа Бродского.
После смерти, по слову Довлатова, началась история. Уход Окуджавы стал личной утратой не только для близких и друзей, не только для коллег по цеху, но для всей его необъятной аудитории. Неисчислимые отклики на его смерть были удивительно искренни, и при этом удивительно сходны. Люди разного возраста, убеждений, различного житейского и эстетического опыта, знавшие Окуджаву близко либо вовсе его не знавшие, повторяли практически одно и то же: «Совесть, благородство и достоинство»…
Цитированное бесспорно и, в силу своей очевидности, не приближает, но отдаляет нас от понимания уникальной роли Булата Окуджавы в истории нашей поэзии второй половины XX века. Нравственные уроки Окуджавы могут быть унаследованы; они, собственно, наследуются бесчисленными благодарными читателями и слушателями. Моцартианская тайна его поэзии – вне толкования. Об эту гармонию обломает зубы не то что алгебра, но любой структурный анализ. Тайна Окуджавы сопредельна не поэтическому инструментарию, но самой природе лирики, ее небывалому качеству, явленному не только его песнями, стихами и прозой – но самим устройством личности поэта. Творчество Окуджавы – едва ли не идеальное подтверждение мысли Иосифа Бродского об антропологической функции поэзии.
«Наверное, его душа уже обрела покой и блаженство там, в небесном Арбате», – писал вослед уходящему Владимир Уфлянд. Понятия «Арбат» и «Окуджава» настолько слились в нашем сознании, что уже невозможно различить: Арбат ли стал сердцевиной лирики Окуджавы, самым заповедным уголком его души, – либо Окуджава стал душой запечатленного, озвученного и воссозданного его гением небесного Арбата. Так что пора все-таки обратиться к биографии.
Булат Шалвович Окуджава родился 9 мая 1924 года в Москве на Старом Арбате. Позже он любил рассказывать, что грузинские друзья называют его «грузином московского разлива». Отец, Шалва Степанович, был членом большой семьи Окуджава, из которой вышло немало революционеров-романтиков ранней героической поры. Мама, Ашхен Степановна Налбандян, также с юных лет отдала себя революционной борьбе. Они познакомились в начале двадцатых, когда бывшие борцы и революционеры уже начали постепенно превращаться в партработников. «Слились две реки – грузинская и армянская – перемешались их древние густые воды, не замедлив течения жизни, не нарушив привычных представлений о ней» – так многие десятилетия спустя живописал их встречу Окуджава в романе «Упраздненный театр». Эта «семейная