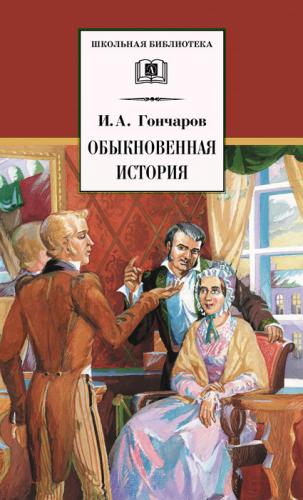Вот на какие посылки разложил он весь этот случай. Племянника своего он не знает, следовательно и не любит, а поэтому сердце его не возлагает на него никаких обязанностей: надо решать дело по законам рассудка и справедливости. Брат его женился, наслаждался супружеской жизнию, – за что же он, Петр Иваныч, обременит себя заботливостию о братнем сыне, он, не наслаждавшийся выгодами супружества? Конечно, не за что.
Но, с другой стороны, представлялось вот что: мать отправила сына прямо к нему, на его руки, не зная, захочет ли он взять на себя эту обузу, даже не зная, жив ли он и в состоянии ли сделать что-нибудь для племянника. Конечно, это глупо; но если дело уже сделано и племянник в Петербурге, без помощи, без знакомых, даже без рекомендательных писем, молодой, без всякой опытности… вправе ли он оставить его на произвол судьбы, бросить в толпе, без наставлений, без совета, и если с ним случится что-нибудь недоброе – не будет ли он отвечать перед совестью?..
Тут, кстати, Адуев вспомнил, как, семнадцать лет назад, покойный брат и та же Анна Павловна отправляли его самого. Они, конечно, не могли ничего сделать для него в Петербурге, он сам нашел себе дорогу… но он вспомнил ее слезы при прощанье, ее благословения, как матери, ее ласки, ее пироги и, наконец, ее последние слова: «Вот, когда вырастет Сашенька – тогда еще трехлетний ребенок, – может быть, и вы, братец, приласкаете его…» Тут Петр Иваныч встал и скорыми шагами пошел в переднюю…
– Василий! – сказал он, – когда придет мой племянник, то не отказывай. Да поди узнай, занята ли здесь вверху комната, что отдавалась недавно, и если не занята, так скажи, что я оставляю ее за собой. А! это гостинцы! Ну, что мы станем с ними делать?
– Давеча наш лавочник видел, как несли их вверх; он спрашивал, не уступим ли ему мед: «Я, говорит, хорошую цену дам», и малину берет…
– Прекрасно! отдай ему. Ну, а полотно куда девать? разве не годится ли на чехлы?.. Так спрячь полотно и варенье спрячь – его можно есть: кажется, порядочное.
Только что Петр Иваныч расположился бриться, как явился Александр Федорыч. Он было бросился на шею к дяде, но тот, пожимая мощной рукой его нежную, юношескую руку, держал его в некотором отдалении от себя, как будто для того, чтобы наглядеться на него, а более, кажется, затем, чтобы остановить этот порыв и ограничиться пожатием.
– Мать твоя правду пишет, – сказал он, – ты живой портрет покойного брата: я бы узнал тебя на улице. Но ты лучше его. Ну, я без церемонии буду продолжать бриться, а ты садись вот сюда – напротив, чтобы я мог видеть тебя, и давай беседовать.
За этим Петр Иваныч начал делать свое дело, как будто тут никого не было, и намыливал щеки, натягивая языком то ту, то другую. Александр был сконфужен этим приемом и не знал, как начать разговор. Он приписал холодность дяди тому, что не остановился прямо у него.
– Ну,