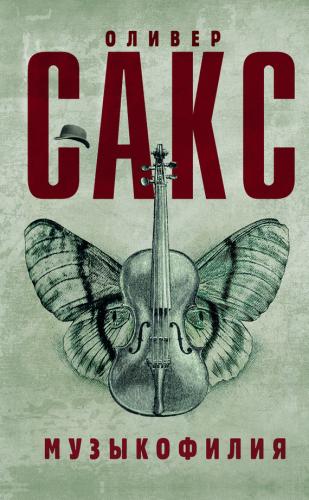Мы можем вообразить Сверхправителей, которые на своих кораблях рассуждают об услышанном. Они будут вынуждены признать, что эта штука, называемая «музыкой», каким-то образом (и очень сильно) влияет на людей, составляет значимую часть человеческой жизни. Тем не менее в музыке нет рациональных понятий, она не предлагает ничего конкретного; мало того, в ней нет образов, символов и прочего языкового материала. Она не имеет представляющей силы. Она, в конце концов, никак не соотносится с миром.
На Земле редко, но встречаются люди, которые, подобно Сверхправителям, лишены нервного аппарата, позволяющего оценивать тональность и мелодичность. Но все же в отношении подавляющего большинства из нас музыка обладает великой силой, не важно, считаем мы себя особенно «музыкальными» или нет. Эта склонность к музыке проявляется в самом раннем детстве, она характерна для всех без исключения культур и, вероятно, восходит к временам зарождения нашего биологического вида. Такая «музыкофилия» органично присуща человеческой природе. Эту склонность можно развить или отшлифовать в условиях нашей культуры, ее можно довести до совершенства дарованиями или слабостями, каковыми мы обладаем как отдельные индивиды, – но сама она располагается в таких глубинах нашего существа, что мы можем считать ее врожденной, тем, что Э. О. Вильсон называет «биофилией», нашим чувством к живым вещам. (Возможно, музыкофилия есть форма биофилии, так как саму музыку мы воспринимаем как почти живое существо.)
Учитывая очевидное сходство между музыкой и языком, мы не должны удивляться идущим вот уже два столетия дебатам относительно того, развивались ли эти феномены совместно или независимо, и если верно последнее, то что появилось раньше. Дарвин считал, что «музыкальные тоны и ритмы использовались нашими полудикими предками в периоды брачных игр и ухаживаний, когда животные разных видов возбуждаются не только любовью, но и такими сильными страстями, как ревность, соперничество и триумф», а речь возникла вторично, из первичных музыкальных тональностей. Современник Дарвина, Герберт Спенсер, придерживался противоположного мнения, считая, что музыка возникла из каденций эмоционально насыщенной речи. Руссо, бывший композитором в той же мере, что и писателем, интуитивно чувствовал, что и то и другое возникло одновременно в виде певучей речи, и только впоследствии музыка и речь разошлись. Вильям Джеймс рассматривал музыку как «случайное бытие… случайность, обусловленную обладанием органом слуха». Уже в наши дни Стивен Пинкер выразился куда более впечатляюще: «Какая польза (вопрошает он, подобно Сверхправителям) тратить время и силы на извлечение этих звонких звуков? …Во всем, что касается биологической целесообразности и эффективности, музыка бесполезна… Она может исчезнуть из нашей жизни, и наш образ жизни останется практически неизменным». Но, однако, есть все основания полагать, что мы обладаем заложенным в нас музыкальным инстинктом, как обладаем инстинктом языка.
Мы, люди, являемся музыкальным биологическим видом не в меньшей степени, чем видом лингвистическим. Этот феномен выступает во множестве разнообразных форм. Все мы (за очень редким исключением) способны воспринимать музыку, воспринимать тональность, тембр, музыкальные интервалы, мелодические контуры, гармонию и (вероятно, это самое элементарное) ритм. Мы интегрируем все эти восприятия и «конструируем» в своем сознании музыку, пользуясь для этого различными участками головного мозга. К этому – по большей части подсознательному – структурному восприятию музыки часто добавляется мощная и глубокая эмоциональная реакция. «Невыразимую глубину музыки, – писал Шопенгауэр, – легко постичь, но невозможно объяснить благодаря тому факту, что она воспроизводит все эмоции нашей самой сокровенной сущности, но не соотносится с действительностью и отчуждена от ее непосредственной боли… Музыка выражает лишь квинтэссенцию жизни и ее событий, но никогда саму жизнь и ее события».
Слушание музыки – это не только слуховой или эмоциональный феномен, но и феномен двигательный. «Мы слушаем музыку всеми нашими мышцами», – писал Ницше. Мы отводим время музыке, отводим непроизвольно, даже если и не слушаем ее целенаправленно. Наша мимика, телодвижения отражают мелодическое повествование, мысли и чувства, которые оно пробуждает в нас.
Многое из того, что происходит при восприятии звучащей музыки, имеет место и при «мысленном ее воспроизведении». Воображение музыки даже относительно немузыкальными людьми отличается не только верным следованием мелодии и чувству оригинала, но и правильной