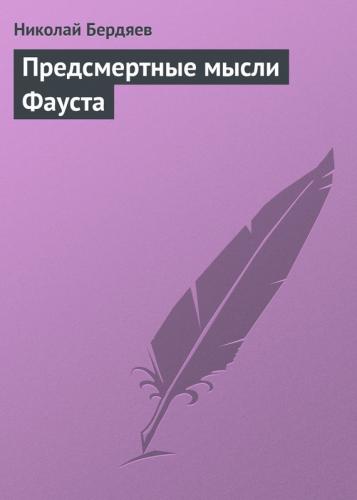Ein Sumpf zieht am Gebirge hin,
Verpestet alles schon Errungne;
Den faulen Pfuhl auch abzuziehn,
Das letzte wär’das Höchsterrungne,
Eröffn’ich Räume vielen Millionen,
Nicht sicher zwar, doch thätig – frei zu wohnen [1].
Так кончаются в ХIХ и ХХ веке искания человека новой истории. Гете гениально предвидел это. Но последнее слово у него принадлежит мистическому хору:
Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichniss:
Das Unzulängliche
Hier wird’s Ereigniss;
Das Unbeschreibliche,
Hier ist’s gethan:
Das Ewig – Weibliche
Zieht uns hinan [2].
И осушение болот лишь символ духовного пути Фауста, лишь ознаменование духовной действительности. Фауст в пути своем переходит от религиозной культуры к безрелигиозной цивилизации. И в безрелигиозной цивилизации истощается творческая энергия Фауста, умирают его бесконечные стремления. Гете выразил душу западно-европейской культуры и ее судьбу. Шпенглер в своей волнующей книге «Der Untergang des Abendlandes» [3] возвещает конец европейской культуры, окончательный ее переход в цивилизацию, которая есть начало смерти. «Цивилизация – неотвратимая судьба культуры». Книга Шпенглера имеет огромное симптоматическое значение. Она дает ощущение кризиса, перелома, конца целой исторической эпохи. Она говорит о большом неблагополучии Западной Европы. Мы, русские, уже долгие годы оторваны от Западной Европы, от ее духовной жизни. И потому, что нам закрыт доступ в нее, она представляется нам более благополучной, более устойчивой, более счастливой, чем это есть в действительности. Еще до мировой войны я очень остро ощутил кризис европейской культуры, наступление конца целой мировой эпохи и выразил это в своей книге «Смысл творчества». Во время войны я написал статью «Конец Европы», в которой выразил мысль, что начинаются сумерки Европы, кончается Европа, как монополист культуры, что неизбежен выход культуры за пределы Европы, к другим материкам, к другим расам. Наконец, два года тому назад я написал этюд «Конец Ренессанса» и книгу «Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы», в которых определенно выразил идею, что мы переживаем конец новой истории, изживаем последние остатки ренессанского периода истории, что культура старой Европы склоняется к упадку. И потому я читал книгу Шпенглера с особенным волнением. В нашу эпоху, на историческом переломе, мысль обращается к проблемам философии истории. То же было в эпоху, когда Бл. Августин создавал свой первый опыт христианской философии истории. Можно предвидеть, что философская мысль отныне будет заниматься не столько проблемами гносеологии, сколько проблемами философии истории. В «Бхагавадгите» откровение происходит во время боя. Во время боя можно решать последние проблемы о Боге и смысле жизни, но трудно заниматься гносеологам анализом. И в наше время мысль работает во время боя. Мы живем в эпоху внутренно схожую с эпохой эллинистической, эпохой крушения античного мира. Книга Шпенглера – замечательная книга, местами почти гениальная, она волнует и будит мысль. Но она не может слишком поразить тех русских людей, которые давно уже ощутили кризис, о котором говорит Шпенглер.
Шпенглер может произвести впечатление крайнего релятивиста и скептика. Даже математика для него относительна. Существует античная аполлоновская математика, – математика конечного, и европейская фаустовская математика, – математика бесконечного. Наука не безусловна, не абсолютна, она есть лишь выражение душ разных культур, разных рас. Но в сущности Шпенглера нельзя причислить ни к какому направлению. Ему совершенно чужда академическая философия, он ее презирает. Он прежде всего своеобразный интуитивист. И в этом он родствен духу Гетевского созерцания. Гете интуитивно созерцал первофеномены природы. Шпенглер интуитивно созерцает историю первофеноменов культуры. Он так же, как и Гете, символист по своему миросозерцанию. Он отказывается мыслить отвлеченными понятиями, не верит в плодотворность такого мышления. Ему совершенно чужда всякая отвлеченная метафизика. От мертвящего методологизма и гносеологизма, в который выродилась некогда великая германская мысль, от болезненной и бесплодной рефлексии обращается Шпенглер к живой интуиции. Он бросается в темный океан исторического бытия народов и проникает в души рас и культур, в стили эпох. Он порывает с эпохой гносеологизма в философской мысли, но не переходит к онтологизму, не строит никакой онтологии и не верит в возможность онтологии. Он знает лишь бытие, явленное в культурах, отраженное в культурах. Первооснова бытия и смысл бытия остаются для него закрытыми.