Прежде всего скажем, что «Борис Годунов» Пушкина – совсем не драма, а разве эпическая поэма в разговорной форме. Действующие лица, вообще слабо очеркнутые, только говорят и местами говорят превосходно; но они не живут, не действуют. Слышите слова, часто исполненные высокой поэзии, но не видите ни страстей, ни борьбы, ни действий. Это один из первых и главных недостатков драмы Пушкина; но этот недостаток не вина поэта: его причина – в русской истории, из которой поэт заимствовал содержание своей драмы. Русская история до Петра Великого тем и отличается от истории западноевропейских государств, что в ней преобладает чисто эпический, или, скорее, квиэтический характер, тогда как в тех преобладает характер чисто драматический. До Петра Великого в России развивалось начало семейственное и родовое; но не было и признаков развития личного: а может ли существовать драма без сильного развития индивидуальностей и личностей? Что составляет содержание шекспировских драматических хроник? Борьба личностей, которые стремятся к власти и оспаривают ее друг у друга. Это бывало и у нас: весь удельный период есть не что иное, как ожесточенная борьба за великокняжеский и за удельные престолы; в период Московского царства мы видим сряду трех претендентов такого рода, но все-таки не видим никакого драматического движения. В период уделов один князь свергал другого и овладевал его уделом, потом, побежденный им, снова уступал ему его владение, потом опять захватывал его; но в уделе от этого ровно ничего не изменялось: переменялись лица, а ход и сущность дел оставались те же, потому что ни одно новое лицо не приносило с собою никакой новой идеи, никакого нового принципа. Отсюда объясняется, почему народонаселение того или другого княжества, того или другого города с одинаковою ревностью билось и за старого князя против нового, и за нового против старого. И одному богу известно, чем бы кончилась для Руси эта усобица, если бы так кстати не подоспели татары. С одной стороны, их жестокое и позорное иго гибельно подействовало на нравственную сторону русского племени, а с другой – было для него благодетельно, потому что чувством общей опасности и общего страдания связало разъединенные русские княжества и способствовало развитию государственной централизации через преобладание московского княжения над всеми другими. Единство более внешнее, нежели внутреннее, но тем не менее все же оно спасло Россию! Иоанн III, которого не без основания некоторые историки называют великим, был творцом неподвижной крепости Московского царства, положив в его основу идею восточного абсолютизма, столь благодетельного для абстрактного единства созданной им новой державы. И этот великий, невидимому, переворот совершился тихо и мирно, без всяких потрясений.{3} Иоанн III обнаружил в этом деле гениальную односторонность, переходившую почти в ограниченность, твердую волю, силу характера; он постоянно стремился к одной цели, действовал неослабно, но не боролся, потому что не встретил никакого действительного и энергического сопротивления. Дело обошлось без борьбы, и, таким образом, одно из самых драматических событий древней русской истории совершилось без всякого драматизма. Драматизм, как поэтический элемент жизни, заключается в столкновении и сшибке (коллизии) противоположно и враждебно направленных друг против друга идей, которые проявляются как страсть, как пафос. Идея самодержавного единства Московского царства, в лице Иоанна III торжествующая над умирающею удельною системою, встретила в своем безусловно победоносном шествии не противников сильных и ожесточенных, на все готовых, а разве несколько бессильных и жалких жертв. Роды удельных князей, потомков Рюрика, скоро выродились в простую боярщину, которая перед престолом была покорна наравне с народом, но которая стала между престолом и народом не как посредник, а как непроницаемая ограда, разделившая царя с народом. Разрядные книги служат неоспоримым доказательством, что в древней России личность никогда и ничего не значила, но все значил род, и торжество боярина было торжеством целого рода боярского. Таким образом, удельная борьба княжеских родов переродилась в дворскую борьбу боярских родов. Но эта борьба не представляет никакого содержания для драматического поэта, потому что при дворе московском один род торжествовал над другим в милости царской, но ни один из торжествующих родов
| Автор: | В. Г. Белинский |
| Издательство: | Паблик на Литресе |
| Серия: | |
| Жанр произведения: | Критика |
| Год издания: | 1845 |
| isbn: |
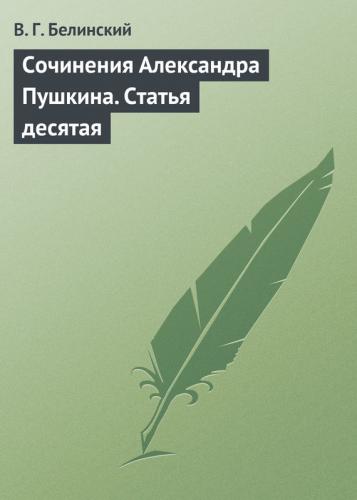
«Борис Годунов» был окончен 7 ноября 1825 года, а «Полтава» 16 октября 1828 года, следовательно, последняя не может относиться к трагедии, как «стремление относится к достижению». Кроме того, маленькая неточность: «Сцена из трагедии «Борис Годунов». 1603 год. Ночь. Келья в Чудове монастыре. Отец Пимен, Григорий спящий.» была напечатана в «Московском вестнике» не в 1828 году, а в 1827 году, в № 1, стр. 2–10).
Особенно резок был отзыв Булгарина в «Северной пчеле» (1830, № 35): «Ни одной мысли в этой водянистой VII главе, ни одного чувствования, ни одной картины достойной воззрения! Совершенное падение, chute complete!» Издатель «Северного Меркурия» писал о «Борисе Годунове», вышедшем в декабре 1830 года: «Убогая обнова, увы! на новый год!» (1831, № 1, стр. 8).
Мысли Белинского по этому вопросу совпадали с мыслями Пушкина. См. «О русской литературе с очерком французской» (1834), наброски статьи о третьей части «Истории русского народа» Н. Полевого.