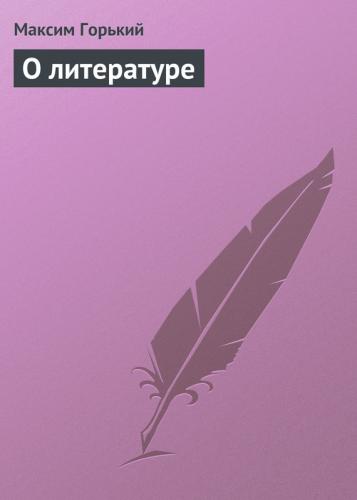Вероятно, историки литературы и критики обидятся на меня, но я должен сказать, что, на мой взгляд, старая наша литература была по преимуществу литературой Московской области. Почти все классики и многие крупные писатели наши были уроженцами Тульской, Орловской и других, соседних с Московской губерний. Жанр и пейзаж – быт и природа, – в которых литераторы воспитывались, довольно однообразны. Решающие впечатления детства были ограничены действительностью Московской области, и эта узость поля наблюдений определенно отразилась впоследствии на творчестве классиков. Можно привести немало доказательств ограниченного знакомства классиков с общерусской жизнью. Они начали работать с тридцатых-пятидесятых годов[2]. В эти годы на Верхней и Средней Волге работали большие тысячи бурлаков, из них отсеивались шайки разбойников; крепостные крестьяне бежали на юг, в Новороссию; происходили «картофельные бунты», шевелились рабочие казённых заводов; широко развивалось сектантство; крестьяне Московской области выделяли из своей среды организаторов текстильного дела и вообще промышленности. Совершалось ещё многое, чего литература того времени не заметила.
«Освобождение крестьян» и разочарование их давно ожидаемой «волей» не отмечено ни одной более или менее художественно написанной книгой, также не отмечено и «хождение в народ» интеллигенции. Равнодушно прошла литература мимо картинной деятельности «народовольцев». О неудачных по форме и враждебных по тону попытках Клюшникова, Всеволода Крестовского, Писемского, Лескова, Гончарова и других изобразить революционера, «нигилиста» можно не упоминать. Хорошие повести Помяловского о том, как революционер превращался в благополучного мещанина, недооценены, так же как неодооценены роман Кущевского о «благополучном россиянине»[3] и повесть Слепцова о «трудном времени»[4], а эти авторы проницательно изобразили процесс превращения героя в лакея, – процесс, который и в наше буйное время «имеет место в жизни».
«Казаки» Льва Толстого – прекрасная случайность, как его «Севастопольские рассказы» и «Хаджи-Мурат». Если б Лев Николаевич знал жизнь трудового народа Поволжья, Северного края и других областей, он едва ли написал бы «Поликушку» и Платона Каратаева так, как написал, наблюдая только сотни и тысячи тульских крестьян, обработанных помещиком и церковью до полной потери сознания. Даже знакомство с Бондаревым и Сютаевым не поколебало крепко сложившегося представления Толстого о мужике как человеке кротком, осуждённом на муки и терпение бога ради. Не поколебал этого представления ни тульский мужик-фабрикант, ни самарский мужик-помещик, которых великий писатель наблюдал.
Гоголь изобразил группу помещиков уродов и чудаков, зная, что его друзья, помещики-славянофилы, пытаются повысить сельскохозяйственную культуру, строят заводы. Эти люди не были уродами, и хотя Манилов родня им по духу, но они – не Собакевичи и Ноздревы. Киреевские, Аксаковы были людьми высокой культуры, и очень странно, что люди этого типа оказались за пределами внимания литературы. Это – одна из иллюстраций к вопросу о том, насколько объективно художественное творчество классиков.
Урал, Сибирь, Волга и другие области остались вне поля зрения старой литературы, так же как Украина, которой самодержавие затыкало рот и связывало руки, создавая этим вражду украинца к «москалю». Уже один факт этого гнёта должен был возбудить внимание и взволновать гуманитарные чувства литераторов. Не взволновал. И никто из крупных литераторов не пробовал писать о жизни Украины и Белоруссии. Я не навязываю художественной литературе задач «краеведения», этнографии, но всё же литература служит делу познания жизни, она – история быта, настроений эпохи, и вопрос о том, насколько широко охватила она действительность свою, – этот вопрос может быть поставлен. Всё, сказанное выше, укладывается в простые слова: поле наблюдений старых, великих мастеров слова было странно ограничено, и жизнь огромной страны, богатейшей разнообразным человеческим материалом, не отразилась в книгах классиков с той полнотой, с которой могла бы отразиться.
Молодая наша литература, при сравнительной слабости её изобразительных средств, отличается широтою охвата действительности. Десяток лет – детское время! И всё же за эти десять лет, тотчас после гражданской войны, молодёжь наша дала множество книг, которые освещают жизнь даже самых тёмных и отдалённых от центров культуры «медвежьих углов».
Мы имеем отличные книги, мастерски рисующие жизнь и быт даже тех племён, которые жили безвестно, немо и только что разбужены властной рукой революции от «сна веков». Укажу на романы Милия Езерского из быта самоедов, на «Полярное солнце» – прекрасную повесть Всеволода Лебедева о жизни лопарей, на роман Пасынкова «Тайпа», мастерски изображающий жизнь одного из племён Кавказа. Можно указать и ещё несколько книг такой же «высокой формы», и все они – подарок, которого нельзя было ожидать так скоро.
В книгах этого