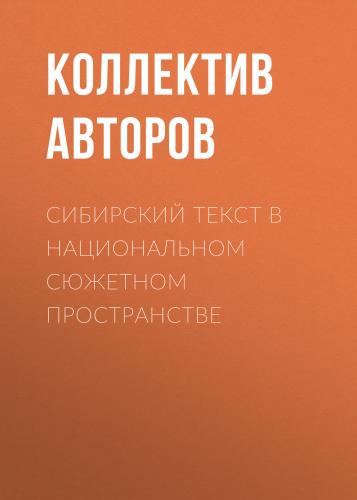Увлеченное «локальными текстами» современное отечественное литературоведение редко прибегает к иерархизации образов тех территориальных миров, которые воссоздаются в культуре. Так, по умолчанию равнозначными признаются любые территориальные тексты, которые находятся за рамками московского и петербургского культурных локусов. Нередко родовым, объединяющим понятием для них служит понятие «провинциального текста». Однако когда тот или иной топографический ареал идентифицируется как провинциальный, тогда неизбежно активизируются два его альтернативных, но «неразрывно связанных друг с другом смысла – убогого никчемного захолустья и потерянного рая»4. В этой ситуации научное исследование (особенно проводимое местным специалистом) рискует выйти за рамки науки в эмоционально-политическую плоскость. Характерным примером болезненного переживания провинциальной «отдаленности» служит часто проникающий то в масс-медиа, то в публицистику и имеющий явную компенсаторную природу мотив «центральности» той или иной российской области и / или города. С этим мотивом нередко соседствуют разговоры не просто о местной самобытности, но самостоятельности и едва ли не исключительности5.
Сибирский текст, как показано в большинстве работ предлагаемого читателю издания, выходит за рамки провинциального мотивного субстрата русской культуры6, и если сразу вынести за скобки ненужные претензии на центральность (как ожидаемую альтернативу провинциальности), то уместнее всего будет проецировать сибирский текст на концепт периферии. Впрочем, захолустьем, по определению Л.О. Зайонц, считать Сибирь (как и любую местность), конечно, можно. Однако следует понимать, что особенностью эмоционально-оценочных высказываний является их сочетаемость принципиально с любым объектом и, как результат, выражение определенного отношения говорящего к объекту, но не характеристика его по существу. Будучи ключевым параметром семиосферы, периферийность естественным образом присуща Сибири7, которую Н.М. Карамзин, вполне безоценочно и точно фиксируя реалии, описывал как «неизмеримое пространство Северной Азии, огражденное Каменным Поясом, Ледовитым морем, Океаном Восточным, цепию гор Алтайских и Саянских…»8. Топографической изолированности соответствовала и историческая: пространство Северной Азии «укрывалось от любопытства древних Космографов», а когда давало о себе знать, то лишь как враждебная цивилизации земля. «…История не ведала Сибири до нашествия Гуннов, Турков, Моголов на Европу…»9. Если приводить примеры эмоционального отношения к этому положению вещей (будем реалистичны – как правило, негативного отношения), то оно будет представлять собой не столько тривиальные сетования на захолустность окраины, сколько едва ли не эсхатологическое переживание края света и конца времен (в персональном измерении – обрыва, перелома частной, моей жизни). «…Надобно помнить общую тему, что Сибирь несет печать отвержения», – подчеркнул в одном из своих писем первый сибирский историк П.А. Словцов10, а его высокопоставленный друг и единомышленник М.М. Сперанский воспринял свою губернаторскую миссию в Сибири 1819-1821 гг. не как продвижение на восток, а – в соответствии с воззрениями на преисподнюю – вниз. «Чем далее спускаюсь я на дно Сибири, тем более нахожу зла, и зла почти нетерпимого», – писал он своему товарищу А.А. Столыпину11. В этом смысле пушкинский образ «во глубине сибирских руд» имеет большую предысторию.
Помимо отмеченных, другими приметами периферийности сибирского ландшафта являются не знавшая крепостничества (в масштабах центральной России) экономика, иной климат, воспринимавшийся во всей гамме своих признаков – то как идеальный, то как невыносимый12, своеобразная этнография и религия местного населения, сразу поставившая русского колониста перед вопросом, как относиться к местным культовым практикам13. Отметим наконец хорошо известное переживание русским