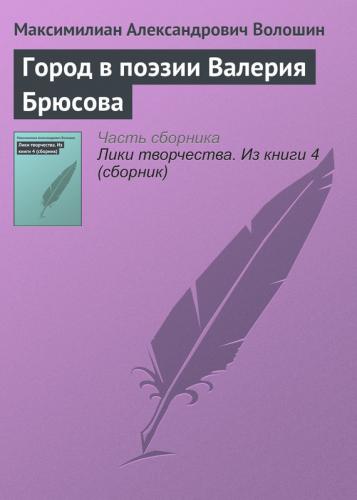Не менее тяжело бывает стать поэтом определенной области переживаний и явлений: поэтом ли «перепевших созвучий», или «поэтом „прекрасной дамы“», поэтом «половых извращений», или «поэтом города».
За Валерием Брюсовым утвердилась в настоящее время в русской литературе слава поэта города. Мне хочется проверить, по справедливости ли Брюсов заслужил эту тяжелую деревянную колодку, в которой критики хотят замкнуть его руки и шею.
Город, действительно, неотвязно занимает мысли Брюсова, и половина всего, что он написал, так или иначе касается города.
Но для того чтобы иметь право называться поэтом того или иного, надо глубоко любить и творчески воссоздавать это в слове.
Никак нельзя назвать, например, Иоанна Крестителя поэтом Ирода, а Виктора Гюго поэтом Наполеона Третьего.
Отношение Валерия Брюсова к городу при первом взгляде очень сложно и противоречиво. Он то страстно призывает его: «Гряди могущ и неведом – быть мне путем к победам!». То призывает варваров на разрушение его и восклицает: «Как будет весело дробить останки статуй и складывать костры из бесконечных книг!».
Попытаюсь последовательно выяснить отношение его к городу прошлого, к городу современному и городу будущего.
В поэме «Замкнутые»[1] отношение его к городу прошлого сказалось вполне законченно. Безвестный город рисует он в ней, старинный и суровый. Он живет одним воспоминанием о жизни и порвал связь с миром современным. Это как бы сама идея старого средневекового европейского города.
Город этот безнадежно замкнут горами и морем, он весь кажется «обветшалым зданием, каким-то сказочным преданием о днях далекой старины». Он «объят тайной лет», «угрюм и дряхл, но горд и строен»…
Из серых камней выведены строго,
Являли церкви мощь свободных сил.
В них дух столетий смело воплотил
И веру в гений свой и веру в Бога.
Передавался труд к потомкам от отца,
Но каждый камень, взвешен и измерен,
Ложился в свой черед, но замыслу творца,
И линий общий строй был строг и верен,
И каждый малый свод продуман до конца.
Строфа эта является в поэзии Брюсова наиболее полным выражением его представлений об архитектуре. Вообще же, говоря о городе, он почти никогда не касается архитектуры, а только называет: площади, аркады, скверы, лестницы, окна, своды… Этот текст указывает на то, что к архитектуре он относится, как к мертвой математической формуле. Если постараться представить себе этот собор, созидаемый им, то пред глазами встанут скучные чертежи Виоле-ле-Дюка или подавляющая тоска Кельнского собора. То, что каждый свод «был продуман до конца», что все камни сложились в свой черед, что строй линий при передаче от одного поколения к другому оставался «строг и верен», – все это исторически неверно. Брюсов обманывает нас – это не настоящий старый город, это новый город. Как ветвистые растения, как сплетение кораллов, росли старые соборы, забывались, изменялись замыслы зачинателя, новые века вносили новые стили, нарушались пропорции, башни недостраивались. И в этом хаосе была гармония, в нарушении строя сказывался гений городов. Разве можно сравнить скучную последовательность Кельнского собора, исправленного и законченного в XIX веке разными германскими Виоле-ле-Дюками, с любым из безвестных соборов Франции, полуразрушенных, незаконченных, но певучих, вдохновленных и крылатых?
Архитектура – не человеческое искусство. Пусть художник чертит план. Пусть рабочие складывают камни. Мертвы стены, возведенные ими. Они посеяли только семя храма. Только когда время овеет их крылами столетий, только тогда мертвые камни станут живыми. Надо, чтобы человеческая кровь окропила, молитвы обожгли, дыхание города проникло эти стены. Архитектура создается не людьми, а временем. Разрушительным время может казаться лишь домовладельцам и реставраторам, для художника же время – великий созидатель. Им же построены живые кристаллы старого города.
Жизни этих кристаллов Брюсов не чувствует. Поэтому он может так спокойно сопоставлять мертвое с живым: «зодчество церквей старинных» и «современный прихотливый свод»; поэтому может он произносить такие слова, позволительные лишь Льву Толстому:
«Я в их церквах бывал, то пышных, то пустынных. В одних все статуи, картины и резьба, обряд застывший в пышностях старинных, бессмысленно-пустая ворожба»…
Для царственных розасов Notre Dame («Париж») он находит единственное сравнение: «Святой калейдоскоп» и даже приводит в движение этот калейдоскоп: «И начинал мираж вращаться вкруг, сменяя все краски радуги, все отблески огней». То, что самому ничтожному из детей города служит напоминанием о мистической Розе, ему напоминает лишь детскую физическую игрушку.
Старый Город представляется ему мертвым часовым механизмом, вечна повторяющим самого себя. Как в окошечке старинных часов, через определенные промежутки времени проходят заводные куклы: «Там тайно в сумерки